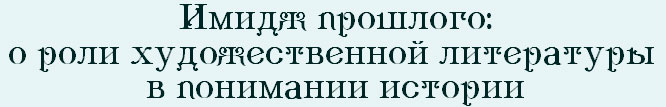А. Берштейн
Настоящие историки любят настоящие источники. То есть документы. При этом всевозможные мемуары очевидцев, современников эпохи, даже непосредственных участников событий подлинными документами нередко не считают и не очень их жалуют. Конечно, в них много субъективного: все зависит от того, у кого какое зрение и какая совесть. Такова и историческая память как особый вид интерпретации. Ведь, вспоминая, даже самые добросовестные из нас обманывают. Так записал в своем дневнике Януш Корчак. И в чем-то он был прав — этот обман случается неосознанно: мы уже стали другими и не в состоянии целиком понять себя прежних. Кстати, во многих воспоминаниях детства — будь то у Набокова, или у Диккенса, или у Пруста — дети всегда выглядят взрослее своих лет, то есть портретно описывается маленький мальчик, а рефлексивен он как взрослый человек. Это происходит оттого, что, когда писатель вспоминает, картинки из детства невольно сталкиваются с нашим сегодняшним взрослым мышлением, после чего преломляются часто самым непредсказуемым образом. Человеческая жизнь, как и время вообще, — река, текущая в одном направлении — от прошлого к будущему. Значит, воспоминания есть плавание против течения, к истокам, когда возвращаешься в прошлое, словно что-то потерял, и пристально вглядываешься в глубину реки, в ее мутное дно, ищешь там свое отражение, которое, как тебе кажется, сохранилось таким, каким было тогда, давно, когда единожды здесь проплывал. В этом смысле наиболее надежными являются все же дневники, в которых каждый день человек записывает то, что непосредственно видел, ощущал, понимал именно в тот самый момент, когда что-то происходило. Как сегодня принято говорить — в режиме on line. Или live — вживую.
Но, так или иначе, историю пишут люди, привнося в нее свой угол зрения, свой уровень мышления, свои пристрастия и эмоции. И в каком искаженном виде она до нас доходит, насколько она далека от подлинной картины, один Бог знает.
В своей публичной лекции в Иерусалиме в 1988 г. недавно ушедший из жизни выдающийся русский философ Сергей Сергеевич Аверинцев говорил о том, как далека академическая наука от, собственно, мира философов и авторов исторических романов. Как малонаселен, на самом деле, мир исторической науки и научной истории культуры, который, наверное, ближе всего к истине. Их деятельность ничего общего не имеет с теми представлениями об истории, которыми питается широкая публика, так как ее знания целиком и полностью зависят от популяризаторов — писателей и публицистов. Их добросовестность и интеллект во многом создают имидж прошлого.
Есть, конечно, любители сознательно подретушировать этот образ, подлакировать его в угоду, чаще всего, власти, потрафить невежественной массе, заставляя ее, как в балагане, смотреться в кривые зеркала. Петр Вяземский называл такой подход, в частности к русской истории, квасным патриотизмом. В его времена это определение было применимо к историческим романам, например, Булгарина, тиражи книг которого в несколько раз превышали пушкинские. В советское время одним из таких «просветителей» считался Пикуль, его занимательно написанные романы издавались самыми массовыми тиражами. В нынешние времена любителей мистификации тоже достаточно — сколько слез пролито «по России, которую мы потеряли»; по той России, имидж которой так не похож на ее подлинный портрет.
Но есть многочисленные примеры обратного, когда история в романах лишь приобретает прозрачность, а еще объем, цвет, запах, всевозможный контекст, эмоциональную окраску и непосредственное сопереживание.
Как-то, готовясь к уроку, посвященному приходу Наполеона к власти, я вспомнил рассуждение старого французского масона в гостях у высокопоставленных русских аристократов вскоре после того, как генерал Бонапарт стал Первым консулом Франции. Всех волновал один вопрос — что же на самом деле произошло 18 брюмера в Париже? И старик Ламор (так звали гостя) ответил: суть того, что произошло в этот день во Франции, в том, что французы выбрали для себя работающую на каждой улице булочную и стоящего на каждом углу полицейского. Умное, емкое определение. Чем это определение ноябрьского переворота 1799 г. во Франции уступает анализу того же Маркса? Пожалуй, оно лишь доступнее. А Ламор — всего лишь вымышленный персонаж романа Марка Алданова «Чертов мост».
Еще один пример из романа того же Алданова «Девятое термидора»: сцена в трактире в Кенигсберге, когда молодой русский офицер заспорил с каким-то стариком — кто есть истинный революционер. «Конечно, Робеспьер, Дантон, Сен-Жюст», — горячо выкрикивал имена знаменитых якобинцев молодой человек. «Ну, если кто и настоящий революционер, так это я», — спокойно эпатировал собеседника невзрачного вида профессор местного университета. «Кто этот зарвавшийся старикашка?», — возмутился офицер. «Его зовут Иммануил Кант», — ответили ему.
Замечательный диалог. Разве он не может служить поводом для самого серьезного историко-мировоззренческого разговора?
В исторических романах, новеллах, очерках Алданова таких примеров, эпизодов, даже просто отдельных фраз, развивающих историческое мышление, множество: чего только стоит, к примеру, фраза из очерка о Пилсудском, комментирующая его незаконный захват власти, когда тот воспользовался небольшим замешательством правительства: «В гражданскую войну нельзя опаздывать даже на полчаса». Это ли не иллюстрация к пониманию той цепи случайностей, что так часто играют решающую роль в истории? И так каждый раз: вопрос — тема для обсуждения, дискуссии, размышления.
Продолжая разговор о гражданской войне уже в России, разве можно ее понять до конца, до кишок, не читая Бабеля или того же Фадеева. Без языка Бабеля и Платонова невозможно войти в ту эпоху: романтические устремления, варварская жестокость, невежественная страсть, неуемная энергия новой религии. Именно то время и рождало Стрельникова, и убивало Живаго, о чем свидетельствует роман Пастернака. И делается это с не меньшей убедительностью и документальной дотошностью, чем яростные и отчаянные дневники Бунина «Окаянные дни».
Очень многие так называемые белые пятна истории закрывали не «вновь открывшиеся исторические факты». А подчас наоборот: «твердым фактам вопреки были данные кое-какие». Так появился совсем другой Павел I у писателя-историка Натана Эйдельмана: не сумасшедший примитивный самодур, а трагическая фигура царя-идеалиста, рыцаря, чье время прошло или еще не наступило, кто хотел, как Петр Великий, а мог всего лишь, как Павел. Другой писатель-историк Юрий Давыдов поведал нам не только о народовольцах, но и о провокаторах и об их талантливых создателях. Мы узнали о трагических судьбах провокатора народовольца Дегаева, выдавшего Веру Фигнер, и убитого с его же помощью жандарма Судейкина; о сотруднике III Отделения Клеточникове, работавшем на «Народную Волю» и уморившем себя голодом в Алексеевском равелине. Замечу, кстати, что вскоре после этого страшная тюрьма, до этого в одночасье поглотившая самых стойких — Михайлова, Квятковского, — была закрыта. К слову, серия «Пламенные революционеры», выходившая в советское время, была в своем роде многотомной всемирной историей, написанной замечательными писателями — Эйдельманом и Давыдовым, Гладилиным, Окуджавой, Аксеновым, Войновичем, Левандовским, Поповским и многими другими.
Возвращаюсь к белым пятнам истории и Гражданской войне. Без того же Юрия Трифонова и его «Старика» мы, наверное, долгое время еще думали бы, что есть только одна Первая конная армия товарища Буденного и понятия бы не имели о Второй товарища Миронова. И никто бы не судачил о смерти Фрунзе, если бы не Борис Пильняк и его «Повесть о погашенной луне».
Примеров талантливой и честной с точки зрения исторической памяти и личной совести литературы не перечесть: нет истории советской эпохи без «Архипелага Гулаг» Солженицына или рассказов Шаламова; ее «Жизнь и судьба» — в романе Гроссмана, ее война — в повестях Астафьева, Бакланова, Быкова и многих других фронтовых писателей; ее деревенская исповедь — в рассказах Шукшина, романах Абрамова, повестях Распутина и Белова.
Чтобы понять, как жил и выживал советский человек, как и о чем он мечтал, строил, совершал подвиги, приспособлялся и деградировал, нужно читать Зощенко и Олешу, Платонова и Домбровского. Без них нет экспериментального человека новой формации. Как без литературы XIX в. — от Пушкина и Гоголя до Достоевского, Толстого и Чехова — нельзя не только узнать, что происходило в том столетии, но и понять феномен «русской души», менталитет русского человека.
Без русской классики нет понимания русской истории. Ведь история — это не только политика и политики, войны и полководцы. Это еще и быт, традиции, образ мыслей. Откуда взялись, к примеру, пресловутые русские интеллигенты и почему они проиграли битву за свой народ; почему Александр I начинал либералом, а после победоносной войны с Наполеоном в благодарность предложил своему народу Аракчеева и военные поселения; почему Николай I, приведя страну к образцовому порядку, и создав, как казалось, мощное государство, закончил Крымской катастрофой и, возможно, самоубийством; его сын Александр II освободил крестьян, провел самые прогрессивные реформы, после чего подвергся травле и буквально охоте, как на дикого зверя, со стороны тех, кто в первую очередь требовал преобразований и в конце концов был ими убит.
Литература, конечно, в чем-то искажает историю в угоду художественному замыслу (нельзя изучать Отечественную войну 1812 г. «по Толстому» — на экзаменах можно провалиться). А чаще всего — в связи с политическим заказом (по этой причине нужно аккуратно подходить к творчеству другого Толстого — Алексея Николаевича). Но магия настоящей литературы в том и состоит, что, возможно, будучи неточной в мелочах, она обладает могучей эмоциональной силой показывать и убеждать. Известно, что Горький, когда прочитал «Смерть Вазир-Мухтара» Тынянова, сказал: «Может, Грибоедов и был другой, но для меня он останется теперь только таким».
Писатели — люди, тонко и напряженно чувствующие свое время. Их порой можно провести, как воробья на мякине. Но часто только через них мы можем услышать отголосок будущего. Расшифровка — это наше дело.
Недавно перечитал «Семью Опперман» Лиона Фейхтвангера. Вот уж писатель — пример того самого стреляного воробья, которого околдовали в «Москве 1937 года». Но до этого он написал гениальную книгу: только-только после прихода Гитлера к власти, что называется, по горячим следам, когда еще очень многим мало что было понятно, была написана эта сага о крушении человеческой иллюзии, книга о фатальности ошибок, прекраснодушии и мелких, эгоистических надеждах. Книга о Зле и Прозрении, никчемности, слабости человека и о силе его духа, мужестве и способности к преодолению. Книга-напоминание, книга-назидание потомкам. Наглядное пособие для подтверждения простой мысли: если история и ничему не учит, то, по крайней мере, предупреждает.
// История: научно-методический журнал для учителей истории и обществознания. - 2004. - № 12. |